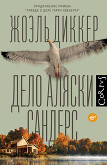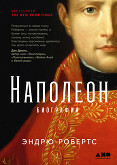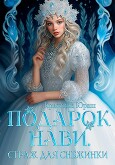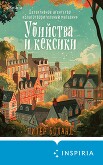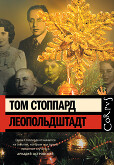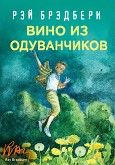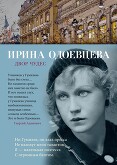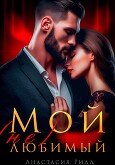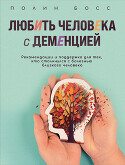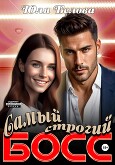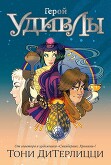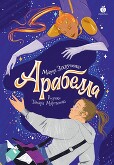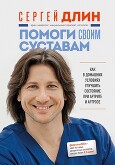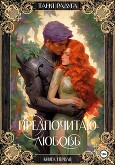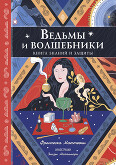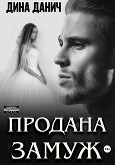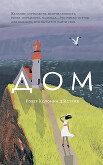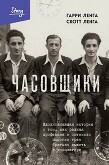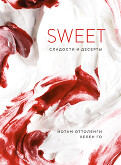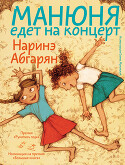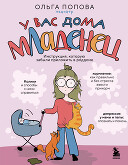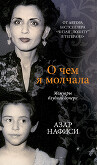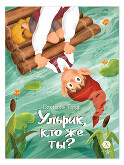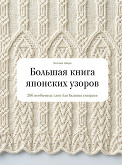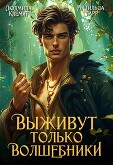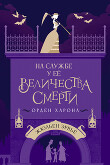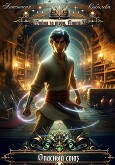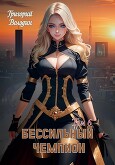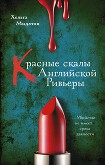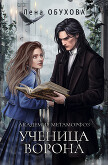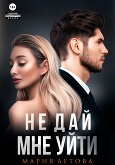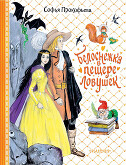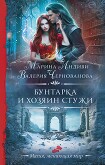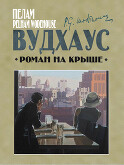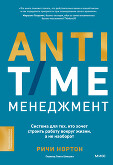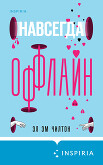Почему я с легкостью принимал такой стиль общения? Попытаюсь объяснить свои тогдашние мотивы. Война упразднила традиционную российскую проблему «отцов и детей». Дети разделяли тяготы наравне с отцами. И воспринимали старших как защитников. А те видели в младших свое продолжение, ради которого и шли на смерть… Мой год рождения — 1928 — оказался рубежом истории, разделившим поколения на военное и послевоенное. Для меня и многих моих ровесников фронтовики были не просто победителями, но и людьми, прошедшими сквозь ад, вернувшимися из него. Слуцкий принадлежал к их числу. Поэтому «военный» стиль разговора даже чем-то импонировал мне. Поскольку обозначал — в моих глазах — не дистанцию между нами, а напротив, утверждал единение соратников, позволяя ощутить себя причастным к «старшим братьям». Мое поколение жаждало встать в один ряд с ними. С другой стороны, то, что Борис Слуцкий знакомил меня с коллегами-поэтами — Леонидом Мартыновым, Давидом Самойловым, со своим давним другом и тоже фронтовиком Петром Захаровичем Гореликом, кроме этикетной вежливости, являлось и актом доверия, введения меня в круг посвященных, «единоверцев». Для времени забрезживших перемен это было важно и необходимо.
Я не остался в долгу. Познакомил Бориса Слуцкого с Глебом Семеновым, отличным поэтом, мастером своего дела, превосходным педагогом. Его фигура примагничивала, стягивала вокруг себя практически всю творчески потенциальную поэтическую молодежь Ленинграда.
Семенов был поэтом совершенно иного склада, нежели Слуцкий — уже хотя бы потому, что один олицетворял типично питерскую, более интровертную, «книжную» школу, а другой типично московскую, более экстравертную, предполагавшую широкую («всенародную») аудиторию. Речь идет, конечно, об оппозиции относительной, об устремленности преобладающей. Однако, при всем своем отличии, Слуцкий высоко ценил поэтическую культуру Глеба Семенова, его дар беспощадного самораскрытия, чувство слова, выверенного и слухом, и зрением.
И вот они встретились — Борис и Глеб, — в сочетании своих имен (разумеется, с улыбкой) обнаруживая некий знак, символ древнего священного братства. В память врезалась сцена: Борис Слуцкий, Давид Самойлов, Володя Корнилов. Читаются очень сильные, социально заряженные стихи. Наконец, звучит хрипловатый голос Глеба:
Жил человек и нету.
И умер не на войне.
Хотел повернуться к свету,
А умер лицом к стене…
Воцаряется долгая тишина. Все молчат, впитывая услышанное, как будто этой еретической простоты, этого глотка родниковой воды и не хватало…
Семенов, конечно, спорил со Слуцким. Но Слуцкий, несомненно, понимал, что профессионально-творческое братство и должно раскрываться во взаимодополнении. Каждый оставался самим собой. Поэтический суверенитет одного подразумевал аналогичное право другого.
Как искусствоведу мне было ясно, что поэзия Слуцкого во многом созвучна мощно заявившему тогда о себе в живописи «суровому стилю»: творчеству В. Попкова, Н. Андронова, П. Никонова. Борис Слуцкий любил живопись и интересовался моим мнением о том или другом художнике. Однажды он спросил: «А как вы относитесь к Глазунову?». (Незадолго перед этим тот переехал в Москву и устроил персональную выставку.) В свое время с Глазуновым мы виделись довольно часто. Меня привлекали его ранние графические листы — черно-белая «повесть о бедных влюбленных», мотивы их неприкаянной бездомности, свиданий на пустынных набережных петербургских каналов. Все мы прошли через увлечение итальянским неореализмом. Но последующие работы художника настораживали: я не находил в них серьезного отношения к своему, как говорил Врубель, «специальному делу», о чем и сказал Слуцкому. «Да, — возразил он, — но у него [то есть у Глазунова. — Л. М.] есть страдание».
Несколько позже Борис Слуцкий обратил мое внимание на работу Константина Васильева[46], нашедшую место у него в комнате. Я пожал плечами…
Похоже — как и в поэзии — проблема контакта живописи с аудиторией его не отпускала. Проповедь не мыслилась вне слушающих, зрящих. Вне сопереживания. «Я» обретало свое «самостояние» во взаимодействии с «мы». Мне кажется, Слуцкий искал точки соприкосновения со своими согражданами. С народом. Разумеется, в очищенном от официозного лака значении этого слова.
Все же постепенно художественные пристрастия Слуцкого сместились в сторону Павла Кузнецова, Михаила Ларионова… Первому он посвятил стихотворение. Работа второго появилась в его доме.
Когда у меня вышла — в серии массовой библиотеки — маленькая книжица о П. В. Кузнецове, я послал ее Слуцкому. Он не ответил. Может быть, не получил. А вероятнее, его уже все сильнее скручивала болезнь…
Вообще же, при всей своей старательно подчеркиваемой деловитой суровости он был человеком исключительно отзывчивым и добрым. У него завязались прочные отношения с Володей Британишским. Он переписывался с Леней Агеевым, когда тот после окончания Горного несколько лет работал в далеком Североуральске. И даже приезжал к нему туда специально в командировку. Очень помог Лене в выпуске его первой книжки.
Я неизменно относился к Борису Абрамовичу с естественным — для меня — пиететом. Но, видимо, это тяготило его. И желая подчеркнуть отсутствие возрастного барьера между нами, он как-то попросил: «Лева, не называйте меня по имени-отчеству». Я удивился: «Не могу же я к вам обращаться на „ты“!» — «Пожалуйста! Можно ведь и по имени — на „вы“: Борис — вы». В дальнейшем так оно и сложилось.
Какая-то из программ посещения Питера включала выступление Слуцкого совместно с одним из московских коллег на лито в Доме культуры. Вечером того же дня мы договорились встретиться у Глеба. Борис быстро «отчитался», и я повез его на улицу Жуковского, где тогда жил Глеб. («Досрочный» уход Слуцкого с мероприятия был воспринят как вызов. Назревал скандал. Но — обошлось.) Когда мы с Борисом пришли, все уже были в сборе. В дружеском застолье Слуцкий взял слово: «Мне недавно довелось — от Союза писателей — побывать в Италии. Мы познакомились и разговорились с Александром Прокофьевым. В частности, о ленинградцах…
(Тут необходима моя вставная новелла. Во времена моей еще очень зеленой юности на заседании секции поэзии, протестуя против „гладкописи“, я прибег к своеобразной форме критики: прочитал стихотворение Прокофьева не „сверху вниз“, а — по строчкам — „снизу вверх“. И получилось, вроде бы, не хуже… Когда Прокопу — так его все мы именовали — доложили об инциденте, он, наливаясь пунцовой лиловизной, клокотал: я для него входил в разряд тех, которые „поразбивали строчки лесенкой“… Каюсь, если бы я знал, что и Прокоп, наш царь-батюшка, в те времена тоже чуть не попал под колесо проработки, — кажется, в связи с его переводами „украинского националиста“ Сосюры, я бы, разумеется, не возникал. Но что случилось — то случилось. И моя „акция протеста“ не была забыта Александром Андреевичем.)
…И вот, когда мы переходили Рубикон (!), — продолжал Борис, — я спросил Прокофьева: Ну, а как там молодая ленинградская поэзия? Что такое Мочалов? — Мочалов? — без запинки ответил он, — это нахал! Так выпьем же, — заключил тостом свою историю Борис, — за нахала Мочалова!»
Это — из области веселого. Но не могу не вспомнить эпизод, уже, наверное, не слишком веселый, хотя, может быть, и смешной. И, по-моему, многозначительный.
Борис приехал в очередной раз в Ленинград. Приехал с Таней, своей женой (их семейный стаж был еще не велик). Мы встретились на Невском, в Екатерининском садике. И я сказал Борису, что хотел бы с ним «серьезно поговорить». Милая Таня деликатно отошла в сторону и присела на скамейке, подальше от нас. А дело происходило поздней осенью. Было холодно. Пробирала питерская промозглость. И был 1962 год. И — Карибский кризис. И мир балансировал на грани термоядерной войны. То бишь, всеобщей катастрофы. Вот об этом-то я, заикаясь, и заговорил с Борисом Слуцким. Заговорил — как будто шагнув в ледяную воду. Слова давались нелегко: «Надо ведь что-то делать! Написать коллективное письмо… Выступить в печати…». (Интересно, кто бы стал печатать предполагаемое воззвание?!) В своем отчаянном побуждении руководимый и сугубо «эгоистическим интересом» (у меня росли две дочери — одной 12, другой 9 лет), я, кажется, был готов на все. Борис слушал меня очень внимательно. Легко оценив мою мальчишескую наивность, он вполне мог отделаться шуткой: похлопал бы по плечу — и гуляй! Но в лице его я не улавливал и тени иронии. Напротив, оно впервые показалось мне несколько растерянным. Он словно бы взвешивал различные субстанции: с одной стороны — чувствуя, что мой порыв порожден верой не только в него как в поэта, принявшего в свои руки знамя гражданской совести, но и во всемогущество Слова; с другой — отлично понимая бессилие слова перед «силой вещей». Властью рока, в конце концов. Минуту-другую длилось молчание. Потом он заговорил мягко и доверительно, с интонацией раздумчивого сомнения и надежды, основанной на этом сомнении. Не берусь точно воспроизвести его речь. Но суть ее можно было бы выразить примерно так: «Знаете, Лева, к счастью есть дистанция между громогласными дипломатическими нотами, политическими заклинаниями и реальным приведением в действие механизма войны…» Именно потому, что слова эти исходили от человека военного, а к тому же разбирающегося в политике, они меня как-то убеждали. И если не успокоили, то пригасили мой пыл.