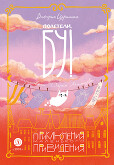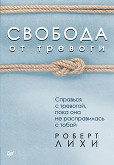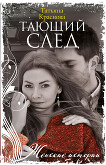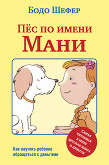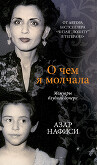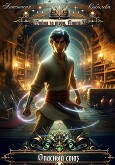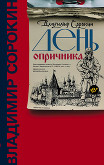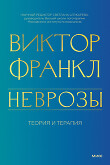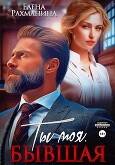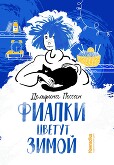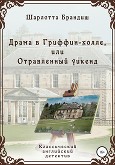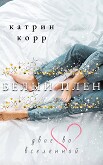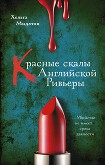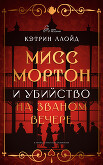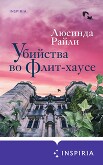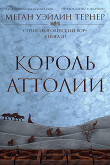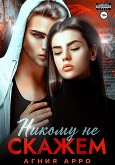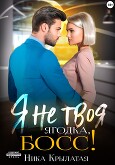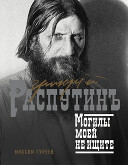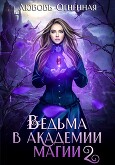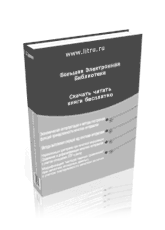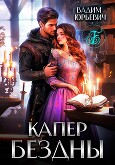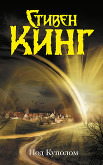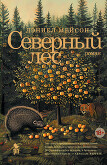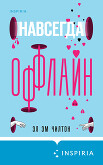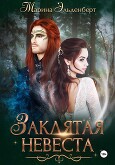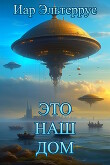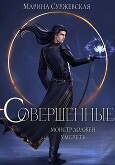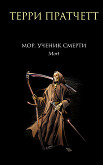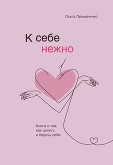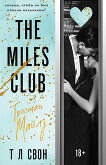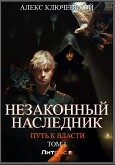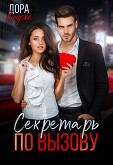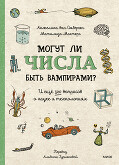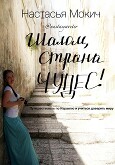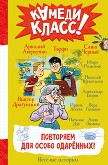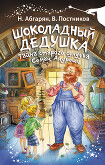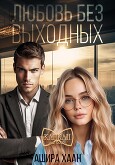Сопротивление населения Курского княжества было потоплено в крови, но сам Ахмат боялся оставаться на Руси и ушел в Орду с татарской ратью, велев двум своим братьям «блюсти и крепити свобод своих»[952]. В памяти русского народа осталось тяжелое разорение, причиненное ему татарским нашествием в 1293 г. Тогда ряд князей во главе с Андреем Александровичем Городецким, враждуя с великим князем Дмитрием Александровичем, привели из Орды от хана Тохты войско под предводительством Тудана (Дюденя). Были разорены 14 волостей Северо-Восточной Руси[953]. Всего в последней четверти XIII в. монголы совершили 15 походов на Русь[954], залив кровью русские земли. * * * XIII столетие — это век, полный трагических событий для русского народа, тяжело отразившихся на его дальнейшей судьбе. Накануне монголо-татарского завоевания Русь в социально-экономическом и культурном отношениях находилась на уровне других передовых европейских государств. Нашествие Батыя нанесло ей громадный урон. Многие города были разрушены до основания, села разорены и выжжены, население истреблено и уведено в плен, поля потоптаны копытами коней завоевателей. «Какие казни от бога не восприяхом? — восклицал в своем поучении владимирский епископ Серапион. — Не пленена ли бысть земля наша? Не взяти ли быша гради наши? Не вскоре ли падоша отци и братья наша трупиемь на землю? Не ведены ли быша жены и чада наши в плен? Не порабощены быхом оставшем горкою си работою от иноплемених?». Выступая уже в 70-х годах XIII в., проповедник с горечью отмечал, что и в его время еще ощущаются тяжелые последствия вражеского хозяйничанья в стране. «Се уже к 40 летом приближаеть томление и мука, и дани тяжькыя на ны не престануть, глади, морове живот наших, и всласть хлеба своего извести не можем; и воздыхание наше и печаль сушать кости наши»[955]. Исследователи хорошо показали, что поход на Русь Батыя был лишь одним из звеньев длинной цепи татарских нападений, протянувшейся через все XIII столетие и перешедшей в XIV век. Арабский автор Эломари (ум. в 1348–1349 гг.), характеризуя политику ордынских ханов в отношении русских, черкесов, ясов, пишет, что последние «[обходятся] с ним [ханом] как подданные его, хотя у них и есть [свои] цари. Если они обращались к нему с повиновением, подарками и приношениями, то он оставлял их в покое, в противном же случае делал на них грабительские набеги и стеснял их осадами; сколько раз он убивал их мужчин, забирал в плен их жен и детей, уводил их рабами в разные страны»[956]. Таким образом, монгольское нашествие на Русь — это не единичный акт, а непрерывный длительный процесс, приводивший страну к истощению, обусловивший ее отставание от ряда других европейских стран, развивавшихся в более благоприятных условиях. Ослабив Русь экономически, монголо-татарское владычество было фактором, мешавшим политическому объединению отдельных земель, содействовавшим консервации феодальной раздробленности. Политика ордынских ханов, направленная к разжиганию межкняжеских усобиц, распрей, внутренних войн, мешала сосредоточению усилий правителей русских земель на борьбе с общим врагом — золотоордынским игом, распыляла их силы. Стремясь держать Русь в повиновении, ордынские ханы действовали не только устрашением. Они пытались опереться на определенные социальные силы; дарами, льготами, привилегиями привлечь к себе часть князей, бояр, духовенства. И это удавалось и приводило к тому, что новгородский летописец назвал «раздвоением» русского общества? некоторые» представители господствующего класса переходили на службу к завоевателям, способствуя укреплению их владычества. Но так поступали далеко не все. И среди феодальной верхушки-князей, бояр, духовных лиц — было достаточно людей, сопротивлявшихся иноземному игу. Активной силой в борьбе с монголо-татарским угнетением были народные массы. На протяжении всего XIII в. шло народно-освободительное движение, вспыхивали антитатарские восстания. Но нужно было время, чтобы создались условия, которые помогли бы этим отдельным стихийным разрозненным выступлениям перерасти в организованное вооруженное сопротивление золотоордынскому владычеству. Это произошло уже в конце XIV в. (знаменитая Куликовская битва 1380 г.). А еще через 100 лет, в 1480 г., Русь сбросила с себя ордынское ярмо. В. Т. Пашуто Монгольский поход в глубь Европы Эти важные страницы европейского прошлого можно правильно понять лишь в связи с историей монгольской империи и борьбы против нее народов двух континентов. В международной историографии до сих пор слышны голоса тех, кто, подобно авторам евразийского толка (Н. Трубецкой, Г. Вернадский, Э. Хара-Даван и др.)[957] славословил сильную личность Чингис-хана и мнимые заслуги его преемников[958]. Исследования советских историков (Б. Я. Владимирцов, А. Ю. Якубовский, А. Н. Насонов и др.) и наших коллег из МНР раскрыли характер общественного строя, государственной организации и внешнеполитических действий монгольских правителей. В этой связи потребовала пересмотра и традиционная трактовка монгольского похода на Европу и причин его провала. Долгое время историки заимствовали объяснение причин срыва монгольского нашествия на Европу у восточных и европейских придворных хронистов, полагавших, что смерть великого хана повлекла за собою отступление монгольских войск. Старая дворянско-буржуазная историография грешила национальным партикуляризмом и не была способна обобщенно оценивать значение борьбы народов Азии и Европы с монгольскими захватчиками. В свою очередь немецкая буржуазная историография, умаляя значение борьбы с нашествием славянских народов, развивала националистическую концепцию, с одной стороны, утверждая, что монгольские ханы ставили целью европейского похода лишь завоевание Венгрии; с другой стороны, у нее выходило, что европейская цивилизация была обязана своим спасением не борьбе народов, а осторожной политике немецких правителей и мощи их вооруженных сил. Эта концепция выдвигалась еще Г. Стракош-Грассманном[959] (впервые собравшим обильный фактический материал по теме) и в наше время получила развитие в трудах немецкого «остфоршера» Б. Шпулера. Этот автор также игнорирует освободительную борьбу народов; по его мнению, завоевание Руси было для монгольских ханов лишь «эпизодом», спасли же Европу… немецкие рыцари, которым якобы принадлежала решающая роль в битве при Легнице[960]. Еще дальше пошел в своих последних работах Г. Вернадский. Признавая, что царившие в Европе раздоры правителей лишали ее шансов на отпор врагу, он заключает: «Запад был неожиданно спасен благодаря событию, происшедшему в далекой Монголии», — умер великий хан. «По сообщению Карпини, он был отравлен теткой его сына Гуюка. Эта женщина, кто бы она ни была, должна рассматриваться как спасительница Западной Европы»[961]. Объективный научный анализ материала позволил вскрыть несостоятельность подобных утверждений, которые постепенно уходят из науки. Европа накануне нашествия Спору нет, Европа не была готова к сопротивлению полчищам Батыя, хотя вести об их приближении поступали давно[962]. Но они носили полуфантастический характер, и им не придавали серьезного значения. Монгольские посольства посещали не только Русь[963], но и другие страны, в частности Венгрию. Великий хан писал королю Беле IV, требуя подчинения, остерегая его принимать к себе половцев и упрекая в том, что множество монгольских посольств не вернулось из Венгрии, — так сообщает доминиканец Юлиан[964]. Его, в числе других доминиканцев и францисканцев, король отправил в Поволжье для разведки в 1235–1238 гг. и получил хорошую информацию об угрозе нашествия[965]. вернуться М. Д. Приселков, Троицкая летопись, стр. 340–343. вернуться В. В. Каргалов, Внешнеполитические факторы…, стр. 171. вернуться Е. В. Петухов, Серапион Владимирский, русский проповедник XIII века, СПб., 1888, тексты, стр. 5. вернуться И. Р. [Николай Трубецкой], Наследие Чингис-хана, Берлин, 1925; Г. Вернадский, Монгольское иго в русской истории, — «Евразийский временник», т. V, 1927, стр. 16З–164; Э. Хара-Даван, Чингис-хан как полководец и его наследие, Белград, 1929. Оценку евразийского взгляда см. В. Т. Пашуто, Истоки немецкой неофашистской концепции истории России, — «Вопросы истории», 1962, № 10, стр. 75. вернуться R. Grousset, L'empire des Steppes. Attila, Gengis-Khan, Tamerlan, Paris, 1939, стр. 316 (Чингис-хан якобы «открыл цивилизации новые пути»). вернуться G. Strakosch-Grassman, Der Einfall der Mongolen in Mitteleuropa in den Jahren 1241 und 1242, Inssbruck, 1893, стр. 50–52, 147–148. вернуться В. Spuler, Die Goldene Horde. Die Mongolen in Rufiland 1223–1502, Leipzig, 1943, стр. 20, 22–23. Этот взгляд был недавно отвергнут Г. Штёклем. См. G. Stokl, Osteuropa und die Deutschen, Hamburg, 1967, стр. 84, 88. вернуться G. Vernadsky, The Mongols and Russia, New Haven, 1953, стр. 58. Оценку общей концепции Г. Вернадского см. в рецензии Н. Я. Мерперта и В. Т. Пашуто («Вопросы истории», 1955, № 8, стр. 180–186). вернуться С. Томашiвський, Предтеча Iсидора Петро Акерович, незнаний митрополит руський (1241–1245), — «Analecta Ordinis s. Basilii Magni», t. II, Yovkva, 1927, fasc. 3–4, стр. 221–313; а также A. F. Grabski, W przeddzien najazdu mongolskiego na Europg. Wggierskie kontakty z ludami Powolza 1231–1237, — «Zeszyty naukowe Universytety Lodzkiego. Nauki humanistyczno-spoleczne», ser. 1, zesz. 30, 1963, стр. 33–59. вернуться Отчет и письма Юлиана см. в «Fontes authentici itinera (1235–1238) fratris Juliani illustrantes», ed. I. Bendefy, — «Archivum Europae Centro-Orientalis», t. III, fasc. 1–3, Budapest, 1937, стр. 1–47; русск. пер. С. А. Аннинский, Известия венгерских миссионеров XII–XIII. вв. о татарах и Восточной Европе, — «Исторический архив», т. III, М.—Л., 1940, стр. 88–89. Источниковедческий анализ см. D. Sinоr, Un voyageur du treizieme siecle: le dominicain Julien de Hongrie, — «Buletin of the School of Oriental and African Studies», University of London, vol. XIV, pt. 3, 1952, стр. 589–602. вернуться Как сказано в письме одного венгерского епископа епископу Парижа, Бела IV еще до вторжения монголов посылал на восток францисканцев и доминиканцев «ad explorandum»; они были убиты в Мордве («Matthaei Parisiensis Chronica Majora. Additamenda», ed. H. R. Luard, t. VI, London, 1877, стр. 75). |